Относительный мой покой – всего лишь накопление недовольства, которое затем однажды ночью, дойдя до предела, прорывается так, что хоть вой, и на следующий день ты влачишь себя по белу свету, как собственное погребальное шествие.
Он только что вернулся со станции после прощания с Фелицией. Его лицо было бледным, тяжелым и неумолимым. Но неожиданно он начал плакать. Это был единственный раз, когда я видел его плачущим. Я никогда не забуду эту сцену, потому что это было самое ужасное, что я когда-либо испытывал. Я был не один в офисе: прямо около моего стола стоял стол моего сослуживца, работающего в юридическом отделе почты… обычном, пыльном, отвратительном офисном помещении. Кафка вошел прямо в комнату, где я работал, чтобы увидеться со мной, прямо посреди кипящей в офисе работы сел около моего стола на маленький стульчик, стоявший специально для просителей, пенсионеров и должников. И в этом месте он плакал, в этом месте он проговорил между всхлипываниями: «Не ужасно ли, что это должно было случиться?» Слезы стекали по его щекам. Никогда, кроме этого раза, я не видел его таким расстроенным, до потери самоконтроля.
Нигде консерватизм так не прискорбен, как в искусстве.
То, что я делаю, просто и очевидно: в моих отношениях с городом, семьей, профессией, обществом, любовью (можешь поставить ее на первое место, если пожелаешь), к существующему или будущему сообществу наших людей, во всех этих отношениях я не оправдал себя достаточно и, более того, я провалился так, как никто другой (я знаю по пристальным наблюдениям за собой). В глубине это всего лишь детская идея — «Никто так не плох, как я», которая позже, откорректированная, причиняет новую боль. Но сейчас мы имеем дело не просто с самоупреками, но с явным патологическим фактом невозможности оправдать себя.
Любимая Фелиция, переписываю Тебе начало последнего письма Макса, потому что оно знаменательно для моего или нашего нынешнего положения.
«Если бы не боязнь Тебя этим встревожить, я бы сказал, что письма Твои свидетельствуют о глубоком покое. Так вот, я это сказал, тем самым доказывая, что даже не слишком боюсь встревожить Тебя ни этим, ни чем-то еще. Ты счастлив в своем несчастье».
Прежде чем сказать Тебе, что я ему ответил, спрошу: может, и Ты примерно того же мнения? Не так грубо, но в общих чертах?
По Ландштрассе, напротив Оберклее, вечером. Я шел, несмотря на то, что на кухне сидели рабочий и два венгерских солдата. Вид из окна Оттлы в сумерки. Вдали еще один домик, а за ним пустое поле. Кунц и его жена на своих полях на склоне прямо напротив моего окна.
Общее впечатление от крестьян: благородные люди, нашедшие спасение в сельском хозяйстве, где они так мудро и безропотно организовали свою работу, что она полностью слилась с мирозданием и до блаженной кончины оберегает их от всяких колебаний и морской болезни. Истинные граждане земли.
Любимая Фелиция, Ты знаешь, что во мне борются двое. В том, что лучший из этих двоих принадлежит Тебе, я как раз в последние дни сомневаюсь меньше всего. О ходе этой борьбы за истекшие пять лет Ты вполне осведомлена моим словом и моим безмолвием, равно как и их сочетанием, осведомлена по большей части на свою беду и муку. Если Ты спросишь, всегда ли это было правдой, я смогу лишь сказать, что ни перед одним человеком на свете не сдерживал ложь столь же истово или, чтобы быть еще точнее, не сдерживал ложь истовей, чем перед Тобой.
Временное удовлетворение я еще могу получать от таких работ, как «Сельский врач», при условии, если мне еще удастся что-нибудь подобное (очень маловероятно). Но счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости.
Плети, которыми мы стегаем друг друга, за последние пять лет обросли добротными узлами.
Сон Верфеля: он рассказал, что где-то в нижней Австрии, где он сейчас проживает, с ним произошел случай. Он встретил на улице человека, которого немного толкнул, после чего последний его ужасно отругал. Полностью сказанные им слова я забыл, но я знаю, что между ругательствами было сказано «Варвар» (из Мировой войны) и заканчивалось «Вы пролетарский турок». Интересное построение: «турок» — по-видимому, оскорбление еще со времен войны с турками и осады ими Вены, и к нему добавлено новое ругательство — «пролетарий». Это хорошо характеризует примитивность и отставание этого забияки, ведь ни «пролетарский», ни «турок» больше уже не являются оскорблениями.
Ф. была здесь, она ехала, чтобы повидать меня, тридцать часов, мне следовало бы помешать этому. Насколько я представляю себе, на ее долю выпало, в значительной степени по моей вине, самое большое несчастье. Я сам не могу себя понять, я совершенно бесчувствен, столь же беспомощен, думаю о нарушении некоторых своих удобств и в качестве единственной уступки немножко разыгрываю комедию. В мелочах она не права, не права в защите своих мнимых или даже подлинных прав, в целом же она невинно приговорена к тяжким пыткам; я совершил несправедливость, из-за которой она подвергается пыткам, и я же подаю орудия пыток. Ее отъездом (карета с нею и Оттлой объезжает пруд, я напрямик пересекаю дорогу и снова приближаюсь к ней) и головной болью (бренные останки комедианта) кончается день.
Рана так болит не потому, что она глубока и велика, а потому, что она застарелая. Когда старую рану снова и снова вскрывают, снова режут то место, которое уже множество раз оперировали, — вот это ужасно. Читать далее
У тебя есть возможность — насколько вообще такая возможность существует — начать сначала. Не упускай ее. Если хочешь взяться всерьез, ты не сможешь избежать того, чтобы грязь исторглась из тебя. Но не валяйся в ней. Если, как ты утверждаешь, рана в легких является лишь символом, символом раны, воспалению которой имя ФСотрудница Technische Werkstätte Berlin., глубине которой имя Оправдание, если это так, тогда и советы врача (свет, воздух, солнце, покой) —символ. Ухватись же за этот символ.

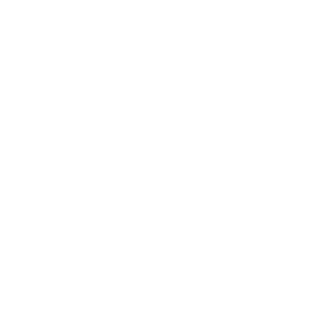
Любимая, как раз по отношению к Тебе — никаких уловок, никакой постепенности в разоблачении правды. Единственная уловка — то, что я пишу лишь сегодня. Я молчал не потому, что молчала Ты. Твое молчание было естественным и понятным само по себе, скорее уж удивительным был Твой милый, добрый ответ. Два последних моих письма, хотя и похожи на меня, но чудовищны, и что-либо ответить на них прямо либо так, как если бы их не было вовсе, нельзя, я это знал, ведь это лишь когда пишу, я будто во сне, но потом я довольно быстро просыпаюсь, правда все равно слишком поздно. Это, кстати, не самое плохое мое свойство. Причина же моего молчания была вот какая: два дня спустя после моего последнего письма, то есть ровно четыре недели назад, ночью, примерно в пять утра, у меня открылось легочное кровотечение. Читать далее
Иногда мне кажется, что мой мозг и мои легкие сговорились втайне. «Это не может так дальше продолжаться», — сказал мозг. И теперь, пять лет спустя, легкие согласились ему помочь.