Веселая, жуткая зима, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность.

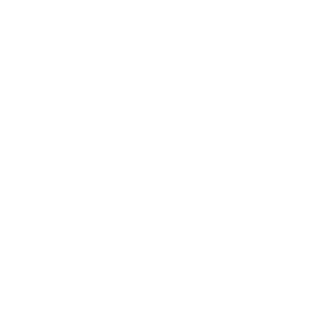
В Москве в особняке какого-то богатого холостяка (ванная, стены с эротикой, везде уютные уголки). В доме — учреждение, и живут некоторые главные служащие. Нашли клад: подвал с вином. Решали вопрос вдвоем: сдать казне или распить? Такая усталость, такая потребность в остром. Решили распить. И вот — среди темных домов, мерзлых бестрамвайных улиц — в этом доме два месяца шла ночная жизнь: закрывали ставни, приглашали знакомых и пили.
Двое приходят с женами и заявляют:
— На сегодняшнюю ночь — они нам не жены. И жены — ведут себя как не жены…
По вечерам и по ночам — домов в Петербурге больше нет: есть шестиэтажные каменные корабли. Одиноким шестиэтажным миром несется корабль по каменным волнам среди других одиноких шестиэтажных миров; огнями бесчисленных кают сверкает корабль в разбунтовавшийся каменный океан улиц. И конечно, в каютах не жильцы: там — пассажиры. По-корабельному просто все не знакомо-знакомы друг с другом, все — граждане осажденной ночным океаном шестиэтажной республики.
В романах Льва Толстого бомба, упавши, прежде чем взорваться, всегда долго крутится на месте — и перед героем, как во сне, проходят не секунды, а месяцы, годы, жизнь. Бомба революции упала в феврале 1917 года, но она еще долго крутилась, еще долгие месяцы после этого все жили как во сне, в ожидании самого взрыва. Когда дым этого страшного взрыва наконец рассеялся, все оказалось перевернутым — история, литература, люди, славы.
Все яснее, что грозит голод и холод. Знакомая вышла из дому в платочке — чтоб быть целее.
Никто ничего не знает. Отрезаны от мира. Сражения нет. Тишина, изредка — голубое небо. Телефоны для частных разговоров закрыты. Слух о железнодорожной забастовке.
Приключение с братом Э. Я.: пришел домой пьяный, с чьей-то винтовкой — и на брата целится. Устроил в комнате баррикаду из шкапов, кресел и засел. Упал, придавленный шкапом.
С утра — далекая пушечная канонада. Позади — близкие выстрелы, звенят стекла. Слухи, что сражение уже в Обухове.
По телефону — с Большой Спасской. Форт Шаброль:
— Ну как?
— Уже пули залетают в окна. Из одного крыла дома перебрались в другое.
Странные, новые знакомства с людьми, которых раньше никогда не знал. Приходят, забыв все предрассудки, так, просто, к друг другу. Телефоны не работают. Разъединяют.
Ночью, в час, приходит Сергей Кирилыч — после путешествия по мертвецким. Он в высоких сапогах — и весь изменился: другое лицо. И чувствуется — дрожит. Перед тем получено по телефону известие, что надо спать одетыми и перейти из верхних этажей вниз.
Ночь. На улице — могильная тишина.
Очень жалко, что не видел февральской революции и знаю только октябрьскую. Это все равно что никогда не знать влюбленности и однажды утром проснуться женатым уже лет этак десять.
На улицах движение отрядов красногвардейцев. Разговоры в трамваях.
— Все правильно, но зачем К. евреев стягивает в Вологде, — солдат.
Солдат железнодорожного батальона:
— Мы идем за теми, кто нам даст мир. Дома не был три года, все разорено...
Въезд на Николаевский мост запружен толпой. На фонаре анархист с 2-мя черными флагами. «Аврора» — с красными. Трамваи идут обратно пустые...
Ночь. Пулеметы, винтовки. Выстрелы орудийные, холостые и боевые. Уже поздно, но во всех домах свет. Никто не ложится. Готовятся к обыскам.
Митинг в Народном драматическом театре; в плаще, с кудрями, в выцветшей зеленоватой шляпе, с портфелем. В зале — полусумрачно от дыханий. Маленькая белая сцена — фигуры, как в кукольном театре. О мягких туфлях.
— Умрем... или победим. Клятва.
Поднятые руки. Уверенность, что будет.
Маленькая белая комната — кабинет редактора журнала «Летопись». Осенний петербургский вечер. Где-то на улице постреливают. Аккомпанемент этот для редактора — видно, дело привычное и нисколько не мешает оживленному разговору. Этот редактор — ГорькийПисатель, издатель, но тема разговора — отнюдь не литературная; вопрос о моем рассказе — это уже дело решенное, Горькому он нравится и уже сдан в набор. Но вот построенные мною ледоколы, и техника, и мои лекции по корабельной архитектуре… «Чорт возьми! Ей-Богу, завидую вам. А я так и помру — по математике неграмотным. Обидно, очень обидно!» Читать далее
На стареньком английском пароходишке (не жалко, если потопят немцы) я вернулся в Россию. Шли до Бергена долго, часов пятьдесят, с потушенными огнями, в спасательных поясах, шлюпки наготове.
Безумная деятельница, мне сообщили за верное, что если сын запишется на медицинский факультет университета — это освободит его от ружья. Убедительно прошу — попробуй сделать это. Я все еще торчу в Питере, чему способствует прекрасная тропическая погода. Зной. Все зеленеет — я тоже. Распустились пальмы на бульварах, баобабы, колокольни и даже фабричные трубы стремительно растут все выше, пуская во все стороны ростки. Я не очень распускаюсь, но устал, как лошадь. Читать далее
Лондон сбесился от солнца. Лондон мчался. Прорвал плотину поток цилиндров, белых, с громадными полями шляп, нетерпеливо раскрытых губ. Неистовым от весны стадом неслись слоно-автобусы и, пригнув голову, по-собачьи вынюхивали друг дружку. Голосами малиновыми, зелеными и оранжевыми орали плакаты: «Роллс-Ройс», «Вальс — мы вдвоем», «Автоматическое солнце». И везде между мелькающих ног, букв и колес — молниеносные мальчишки в белых воротничках с экстренным выпуском. Читать далее