Нерон!
Здравствуй!
Хочешь?
Зрелище величайшего театра.
Сегодня
бьются
государством в государство
16 отборных гладиаторов.
Куда легендам о бойнях Цезарей
перед былью,
которая теперь была!
Как на детском лице заря,
нежна ей
самая чудовищная гипербола.
Белкой скружишься у смеха в колесе,
когда узнает твой прах о том:
сегодня
мир
весь — Колизей,
и волны всех морей
по нем изостлались бархатом.
Трибуны — ска́лы,
и на скале там,
будто бой ей зубы выломил,
поднебесья соборов
скелет за скелетом
выжглись
и обнеслись перилами.
Сегодня
заревом в земную плешь она,
кровавя толп ропот,
в небо
люстрой подвешена
целая зажженная Европа.
Пришли,
расселись в земных долинах
гости
в страшном наряде.
Мрачно поигрывают на шеях длинных
ожерелья ядер.
Золото славян.
Черные мадьяр усы.
Негров непроглядные пятна.
Всех земных широт ярусы
вытолпила с головы до пят она.
И там,
где Альпы,
в закате грея,
выласкали в небе лед щеки, —
облаков галереей
нахохлились зоркие летчики.
И когда
на арену
воины
вышли
парадными парами,
в версты шарахнув театром удвоенный
грохот и гром миллиардных армий, —
шар земной
полюсы стиснул
и в ожидании замер.
Седоволосые океаны
вышли из берегов,
впились в арену мутными глазами.
Пылающими сходнями
спустилось солнце —
суровый
вечный арбитр.
Выгорая от любопытства,
звезд глаза повылезли из орбит.
А секунда медлит и медлит.
Лень ей.
К началу кровавых игр,
напряженный, как совокупление,
не дыша, остановился миг.
Вдруг —
секунда вдребезги.
Рухнула арена дыму в дыру.
В небе — ни зги.
Секунды быстрились и быстрились —
взрывали,
ревели,
рвали.
Пеной выстрел на выстреле
огнел в кровавом вале.
Вперед!

Вздрогнула от крика грудь дивизий.
Вперед!
Пена у рта.
Разящий Георгий у знамен в девизе,
барабаны:
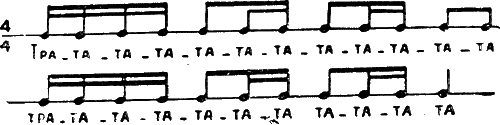
Бутафор!
Катафалк готовь!
Вдов в толпу!
Мало вдов еще в ней.
И взвился
в небо
фейерверк фактов,
один другого чудовищней.
Выпучив глаза,
маяк
из-за гор
через океаны плакал;
а в океанах
эскадры корчились,
насаженные мине на́ кол.
Дантова ада кошмаром намаранней,
громоголосие меди грохотом изоржав,
дрожа за Париж,
последним
на Марне
ядром отбивается Жоффр.
С юга
Константинополь,
оскалив мечети,
выблевывал
вырезанных
в Босфор.
Волны!
Мечите их,
впившихся зубами в огрызки просфор.
Лес.
Ни голоса.
Даже нарочен
в своей тишине.
Смешались их и наши.
И только
проходят
во́роны да ночи,
в чернь облачась, чредой монашьей.
И снова,
грудь обнажая зарядам,
плывя по вёснам,
пробиваясь в зиме,
армия за армией,
ряд за рядом
заливают мили земель.
Разгорается.
Новых из дубров волок.
Огня пентаграмма в пороге луга.
Молниями колючих проволок
сожраны сожженные в уголь.
Батареи добела раскалили жару.
Прыгают по трупам городов и сёл.
Медными мордами жрут
всё.
Огневержец!
Где не найдешь, карая?!
Впутаюсь ракете,
в небо вбегу —
с неба,
красная,
рдея у края,
кровь Пегу.
И тверди,
и воды,
и воздух взрыт.
Куда направлю опромети шаг?
Уже обезумевшая,
уже навзрыд,
вырываясь, молит душа:
«Война!
Довольно!
Уйми ты их!
Уже на земле голо́».
Метнулись гонимые разбегом убитые,
и еще
минуту
бегут без голов.
А над всем этим
дьявол
зарево зевот дымит.
Это в созвездии железнодорожных линий
стоит
озаренное пороховыми заводами
небо в Берлине.
Никому не ведомо,
дни ли,
годы ли,
с тех пор как на́ поле
первую кровь войне о́тдали,
в чашу земли сцедив по капле.
Одинаково —
камень,
болото,
халупа ли,
человечьей кровищей вымочили весь его.
Везде
шаги
одинаково хлюпали,
меся дымящееся мира ме́сиво.
В Ростове
рабочий
в праздничный отдых
захотел
воды для самовара выжать, —
и отшатнулся:
во всех водопроводах
сочилась та же рыжая жижа.
В телеграфах надрывались машины Морзе.
Орали городам об юных они.
Где-то
на Ваганькове
могильщик заерзал.
Двинулись факельщики в хмуром Мюнхене.
В широко развороченную рану полка
раскаленную лапу всунули прожекторы.
Подняли одного,
бросили в окоп —
того,
на ноже который!
Библеец лицом,
изо рва
ряса.
«Вспомните!
За ны!
При Понтийстем Пилате!»
А ветер ядер
в клочки изорвал
и мясо и платье.

Выдернулась из дыма сотня голов.
Не сметь заплаканных глаз им!
Заволокло
газом.

Белые крылья выросли у души,
стон солдат в пальбе доносится.
«Ты на небо летишь,—
удуши,
удуши его,
победоносца».
Бьется грудь неровно…
Шутка ли!
К богу на́-дом!
У рая, в облака бронированного,
дверь расшибаю прикладом.
Зрелище улицы. У табачников выстраивается очередь: тогда солдаты ящиками раздобывают папиросы, устраиваются на мостовой и сбывают папиросы прохожим поштучно. Очень изобретательно. «Революционный народ», вечерняя газета эсеров, публикует по этому поводу возмущенный протест «фронтовика» (окопника, человека из траншей).
В Мойке утоплен пес с камнем на шее. Дворник жалуется на буржуев: заводят собак, а потом убивают их, не желая больше кормить. Мадам Л. сделала замечание, что это, судя по виду, не должна быть буржуазная собака. Глазели.
Осмотрела этот дом и тот, другой, который совершенно не подготовлен. Распаковывала вещи и приводила в порядок наши комнаты. Отдыхала. Днем была гроза.
Встали пораньше, и последние вещи были немедленно уложены. В 10½ я с детьми сошёл с комендантом и офицерами на берег и пошёл к нашему новому жилищу. Осмотрели весь дом снизу до чердаков. Заняли второй этаж, столовая внизу. В 12 час. был отслужен молебен, и священник окропил все комнаты св. водой. Завтракали и обедали с нашими. Пошли осматривать дом, в котором помещается свита. Многие комнаты ещё не отделаны и имеют непривлекательный вид. Затем пошли в так называемый садик — скверный огород, осмотрели кухню и караульное помещение. Всё имеет старый, заброшенный вид. Разложил свои вещи в кабинете и в уборной, которая наполовину моя, наполовину АлексеяНаследник российского престола.
В каждой капле, что сверкает в распустившихся кустах,
Блещет солнце, светит море, небо в белых облаках.
В каждой капле, что сбегает, по сырой листве шурша,
Синей тучи, майских молний отражается душа.
Читать далее
Дни и ночи у нас жаркие, сухие, даже чудесные, а в политике все то же: барахтается утопающая Россия и пускает пузыри. А на берегу зрители и сочувствующие: опускайтесь, кум, на дно. Сейчас барахтаются в Москве, на совещании, и большевик Вересаев устраивает забастовку протеста. И все ожидаются драки: драка в Гельсингфорсе по поводу сейма, драка с Украиной и ничтожным ВинниченкойПисатель, политический деятель, драка промеж себя. Вообще драка. Но все-таки Россия не утонет в этой грязной луже, хотя изгваздается как свинья. Так и надо — испытание, экзамен народу. Оказался плох, провалился, значит, надо готовиться еще.
Совещание в Москве открылось (там — частичная забастовка, у нас — тихо). Керенскийпремьер-министр сказал длинную речь. Если не считать появившегося у него заплетания языка, обыкновенную свою речь: пафотическую, местами недурную. Только уже несовременную, ибо опять не деловую, а «праздничную». (Праздник у нас, подумаешь!) Затем говорил АвксентьевПублицист, затем Прокопович. И затем… мы ничего не знаем, ибо вечерних газет не было, редакции пусты, да и завтра не будет газет — «товарищи-наборщики праздничают».
Кроме трамваев вчера бастовали (сегодня трамваи ходят) на городском газовом заводе, прислуга и повара некоторых ресторанов и кофеен и на многих заводах. Не устыдились бастовать и в «земгорских» разных мастерских. Однако этим совещание не сорвано, и первый день его прошел в порядке, без эксцессов, как в самом Большом театре, так и около его. Собралось свыше 2000 человек. Совещание открылось речью Керенского, продолжавшейся более полутора часов. Она то вызывала аплодисменты правой стороны, то левой, но, как видно, не слила все сердца воедино, и если были бурные единодушные аплодисменты, то только по адресу союзников и «недезертирствующих» офицеров, да и то только из вежливости, а не по чистому побуждению. Читать далее
Совещание ждало выступления КорниловаГенерал, Верховный главнокомандующий. В партии Народной Свободы шли напряженные разговоры о направлении ее деятельности. По вопросу о войне было единодушие: надо продолжать. Но по вопросу об армии — как ее устроить, по вопросу о правительстве — куда ему надо двигаться, куда двигаться самим — было разногласие. Раздавалась проповедь реставрации… В утро приезда Корнилова Собрание Комитета Народной Свободы просило ехать встречать его Щепкина, меня и 3-го. Читать далее
Чувство всеобщей неразберихи какой-то и всеобщего ожидания катастрофы охватило с особой силой в зале Большого театра. Все члены совещания приезжали с готовыми мнениями, общего языка, конечно, никто не смог бы найти, и значение совещания сводилось, таким образом, лишь к тому, чтобы еще лишний раз показать, как разошлись пути революции и какая бездна лежит перед страной.
Зашел в уборную. Там стоял сторож. Это меня обозлило. Я не люблю мочиться при других. Потом, когда я мыл руки, мой взгляд встретился в зеркале с его взглядом. Я посмотрел на него с раздраженной злобой. Он ответил мне тем же. (Я сейчас еще вижу его лицо, красное, потное, строгие и скорее приятные глаза и всклокоченную прическу.) Мне следовало поцеловать его руку, может быть, тогда злость растаяла бы и не было бы этой тяжести человеческой.
Парикмахерские тоже переживают кризис. Во многих столичных парикмахерских нет ни одеколона, ни шведской воды, ни бриолина. После бритья лицо «освежают» простой водой, а волосы мочат какой-то сомнительной помадой. Хорошо еще, что есть мыльный порошок для бритья и пудра. По-видимому, недалеко то время, когда каждому обывателю придется поневоле отпустить бороду. Бритые физиономии отойдут в область предания.
По инструкции каждую лодку, приближавшуюся к кораблю, следовало окликать обычным вопросом: «Кто гребет?». Немедленно следовали ответы: «Офицер!» или «Матрос!». Однако, хотя война продолжалась, эта элементарная мера предосторожности больше не соблюдалась. Однажды ночью, стоя на вахте, я заметил, как возле корабля делает круги небольшая лодка, которую никто не окликал. Я подошел к поручням и окликнул:
— Кто гребет?
Минуту или дольше никто не откликался, затем в темноте прозвучал бодрый голос:
— Что вас беспокоит, товарищ? Гребу я, а Наташа — на руле! Читать далее
Я попытался освободить офицера и снять с него все обвинения. Я обращался по инстанциям, строго выполняя все требования того времени. Казалось, я постепенно приближаюсь к поставленной цели. Когда все бумаги дошли до армейского комиссара, он сам прибыл ко мне и заявил, что хочет разобраться с виновниками непосредственно в полку (тот в данный момент располагался вдали от линии фронта). Комиссар поздравил меня с положительным решением вопроса и объявил о полной поддержке моих действий. Он пообещал, что солдаты, арестовавшие офицера, будут переведены в другой полк.
Среди всех моих многочисленных забот о сохранении порядка и боеспособности в моей дивизии мне пришлось еще принять на себя охрану фруктового сада в расположении штаба дивизии. В это время стали поспевать яблоки, урожай коих был довольно порядочный. От нашествия солдат моей дивизии сад был гарантирован, т. к. мною это было строжайше запрещено, и если бывали случаи воровства яблок, то только единичные. Но в двух верстах от нас стоял полк другой дивизии, неимоверно распущенный, солдаты коего были чистые разбойники и хулиганы. Они бродили толпами и бесчинствовали, и я опасался их гораздо больше, чем немцев. Читать далее
В Министерство почт и телеграфов поступило заявление о том, что в посылке, посланной в действующую армию 1 мая сего года и затем вследствие изменившихся обстоятельств возвращенной отправительнице в Петроград, при вскрытии посылки оказалось вместо посланных вещей несколько пачек махорки, тряпки и рваный хлам, очевидно, вложенным по весу, обозначенному на посылке. Адресована посылка была в 685 пехотный полк и снаружи к ней приклеен ярлык с печатной надписью «кладовая 3 экспедиции № 24.733».
Отправительница, вполне сознавая все трудности производства в настоящее время расследования и полную безполезность такового, просит довести об этом случае до сведения, дабы, если эти строки попадут на глаза виновных, им стыдно будет за такое отношение к защитникам нашей родины.