Петроград. Вечерами он куда красивее. Здешние каналы удивительно своеобразны, и хотя порой в них можно уловить сходство с венецианскими или амстердамскими, оно лишь подчеркивает их отличие. Неяркие, приглушенные краски. Близкие к пастельным, но такие нежные, какие художникам редко удается передать. От каналов веет тишиной, бесхитростностью и наивностью; этот фон представляет отрадный контраст русским с их необузданным воображением и буйными страстями. Сегодня в Александринском театре начинает заседать Демократическое совещание. Это съезд рабочих, а значит, по этим делегатам со всех концов России можно составить представление о тех слоях, которые их сюда послали.
Обозрев их лица, я поразился: это были по преимуществу крестьянские лица; встречались, разумеется, и во множестве, евреи, со сметливыми настороженными глазами; по моим предположениям, среди собравшихся (а в театре набилось чуть ли не две тысячи человек) немало проходимцев, но в целом они произвели на меня впечатление людей не аморальных, а неразвитых и грубых; у них лица людей невежественных, на них написано отсутствие мысли, ограниченность, упрямство, мужицкая неотесанность; и хотя одни были в крахмальных воротничках и пиджаках, а другие в форме, меня не оставляло ощущение, что они недалеко ушли от медлительных землепашцев. Они безучастно слушали выступления. Ораторы говорили очень долго. Заседание, назначенное на четыре, началось лишь в пять и продолжалось чуть ли не до полуночи. За это время выступило всего пять человек, речи были примерно одной продолжительности. Ораторы говорили очень быстро, пылко, но однообразно; все были убийственно серьезны и не пытались оживить речь ни занимательной историей, ни шуткой; они даже не давали слушателям передохнуть, приведя простой факт, а ограничивались общими фразами и призывами; все речи были, в сущности, пустой болтовней. Один профессор права сказал как-то студентам: «Когда выступаете в суде, если в пользу вашего подзащитного говорят факты, вбивайте это в головы присяжных, если в его пользу говорит закон, вбивайте это в голову судье». — «А что если и факты, и закон против нас?» — спросил один из студентов. — «В таком случае бейте что есть мочи кулаком по столу», — ответствовал профессор. Эти ораторы без передышки били кулаком по столу. Но большого впечатления не производили. Точь-в-точь таких ораторов можно встретить на собрании в поддержку какого-нибудь кандидата радикальной партии одного из избирательных округов Южного Лондона.
Чернова называют злым гением революции и все боятся; он, как полагают, пользуется невероятным влиянием и при этом не обладает ни силой характера, ни яркой индивидуальностью; он — коренастый, с крупными грубыми чертами лица и седой шевелюрой. Таких краснобаев-социалистов можно встретить по всему свету, говорил он невероятно долго, с утомительным пафосом. Церетели, министр иностранных дел, говорил четко и по делу, но невыразительно, — заурядная речь заурядного человека. Удивляет, что такие посредственности правят огромной империей, и я задался вопросом: что их выдвинуло из этой толпы безликих людей, которых они, судя по всему, не превосходят ни характером, ни силой воли, ни умом.
Подлинный энтузиазм у собравшихся вызвал лишь Керенский. Любопытно было поглядеть на человека, за такое короткое время поднявшегося на вершину власти и славы; и тут я был вновь ошарашен: в Керенском не чувствуется силы, и это сразу бросается в глаза. Не возьму в толк, как его враги смогли угадать в нем наполеоновских масштабов замыслы. Он больше напоминает Сен-Жюста, чем Бонапарта. Керенский сидел посередине царской ложи, председательствующий объявил его выступление, и он проследовал по центральному проходу на сцену. Одет он был в костюм защитного цвета, за ним шли два адъютанта. Он немного грузнее, чем мне представлялось, без бороды и усов, волосы острижены ежиком; но прежде всего я обратил внимание на его цвет лица. Кому не доводилось читать о том, как лицо героя позеленело от ужаса, и я всегда считал это вымыслом романистов. Но именно такой цвет лица был у Керенского. Он стремительно поднялся на сцену, обошел вокруг стола, где сидел президиум, и по очереди поздоровался с каждым из делегатов за руку. Рукопожатие у него быстрое, порывистое, с лица его при этом не сходило выражение тревоги. Вид у него был, как ни странно, загнанный. Он явно нервничал. Он переживал опасный момент — его в открытую обвиняли в пособничестве мятежу генерала Корнилова, и большевики — это совещание организовали они — относились к нему враждебно; было известно, что здесь может решиться его судьба, и, если экстремисты окажутся в большинстве, его, как предполагалось, заставят подать в отставку. Никто не знал, что он предпримет, но складывалось мнение, что в отставку он не подаст, а переведет правительство в генеральный штаб и, отдав Петроград большевикам, будет править Россией, опираясь на армию. В начале речи Керенский практически поставил вопрос о вотуме доверия. Он говорил около часа, свободно, не заглядывая ни в какие заметки, хотя его постоянно прерывали. Говорил с большим подъемом. Над оркестровой ямой пролегали мостки для прохода на сцену, и он то и дело сбегал по ним, пока не оказался чуть ли не среди слушателей, — можно было подумать, что он хочет обратиться к каждому из них лично. Он взывал к чувствам, не к разуму. Ему все чаще аплодировали, попытки же прервать его пресекались все более раздраженно. Люди, похоже, почувствовали, что перед ними искренний, прямодушный человек, и если он и допускал ошибки, это были ошибки честного человека. Голос его красивым не назовешь, говорит он на одной ноте, без модуляций; в его ораторских приемах нет контрастов и, я бы сказал, ничего вдохновляющего. Воздействовал он лишь своей серьезностью и объективностью. Закончив речь, он быстро обошел стол, пожал руки делегатам и ушел в ложу под гром аплодисментов. В ответ на рукоплескания он уже из ложи сказал несколько слов и покинул театр. В этот день победа осталась за ним.
Савинков. Ему от сорока до пятидесяти, среднего роста, стройный, с наметившейся плешью; черты лица ничем не примечательные, глаза маленькие, пронзительные, сдвинутые к переносице. Легко представить, что порой они бывают жестокими. Одет тщательно: высокий воротничок, неброской расцветки галстук с булавкой, сюртук, лакированные ботинки. У него вид преуспевающего адвоката. Ничто в наружности Савинкова не говорит о его бешеном нраве. Он производит впечатление человека воспитанного, не слишком интересного, но обладающего некоторым весом. Манера поведения у него спокойная, сдержанная и скромная. Лишь когда он заговорил, я понял, что передо мной человек выдающийся. Он говорил по-русски и превосходно по-французски, свободно и правильно, разве что иногда употреблял не тот род, говорил неспешно — так, словно прежде обдумывает свои слова, но было ясно, что он обладает завидным умением как нельзя более точно выражать свою мысль. Голос у него тихий, приятный, выговор очень четкий. Более пленительного собеседника мне не доводилось встречать. Если тема требовала серьезности, он был серьезен, к месту шутлив; его высказывания были настолько обоснованны, что с ним нельзя было не согласиться; убеждать он умел как никто другой; притом и веская речь, и внушительная сдержанность говорили о железной воле — без нее его беспощадность была бы необъяснима. Я не встречал ни одного человека, от которого исходило бы такое ощущение уверенности в себе.
Он рассказал мне две любопытные истории. После боев 18 июля, когда русские потерпели позорное поражение, Керенский, который вместе с ним видел, как они бегут с поля боя, предложил Савинкову поехать в его машине. Савинков — а он был в ту пору военным министром — решив, что Керенский хочет посоветоваться, как устранить последствия разгрома, сел в автомобиль, и они отправились в путь. Однако Керенский как в рот воды набрал. Вид у него был испуганный, убитый. Лишь раз он нарушил молчание, продекламировав затасканные строки второразрядного поэта; Савинков не поверил своим ушам. Что общего между этими сентиментальными стишками и трагедией их родины? Заключил он свой рассказ так: «Как характерно, что этот недоучка искал утешения у такого плохого поэта». Нечто подобное произошло и при падении Тернополя. Савинков, видя, что русские пустились наутек, кинулся к Корнилову — рассказать, что творится. У Корнилова ни один мускул не дрогнул в лице; без малейших колебаний он сказал: «Расстрелять их». По тому, как Савинков излагал эту историю, было видно: в Корнилове он узнал человека, равного ему силой духа.
А вот и другая история. Он возвращался с фронта с Керенским, и уже в Петрограде, на вокзале, премьеру вручили телеграмму. Он пробежал ее и передал Савинкову со словами: «Займитесь, пожалуйста, этим делом». Телеграмма была от женщины, которая просила помиловать сына, — он дезертировал и подлежал расстрелу. Савинков никакого касательства к этому делу не имел: не он выносил приговор и помиловать дезертира было не в его власти. Керенский передал ему телеграмму, чтобы снять с себя ответственность, которой страшился. «И вот ведь что любопытно, — закончил свой рассказ Савинков, — Керенский никогда не возвращался к этому делу; он так и не набрался духу спросить, что же я предпринял».
Савинков описывал Керенского как человека не дела, а фразы, тщеславного, не терпящего возражений и окружающего себя подхалимами, болезненно многословного, который произносит речи с глазу на глаз со своими министрами и даже наедине с адъютантом в автомобиле, человека, у которого недостает ни образования, ни воображения, измотанного, с издерганными нервами. «Не будь он начисто лишен воображения, — сказал Савинков, — он никогда бы не водворился в Зимнем дворце со всеми своими домочадцами».
Керенский. Вид у него болезненный. Все знают, что он нездоров; он и сам не без некоторой бравады говорит, что жить ему осталось недолго. У него крупное лицо; кожа странного желтоватого оттенка, когда он нервничает, она зеленеет; черты лица недурны, глаза большие, очень живые; но вместе с тем он нехорош собой. Одет довольно необычно — на нем защитного цвета костюм, и не вполне военный, и не штатский, неприметный и унылый. Керенский стремительно вошел в комнату в сопровождении адъютанта, пожал мне руку — крепко, быстро, машинально. Он был до того взвинчен, что это даже пугало. Усевшись, он заговорил — и говорил без умолку, схватил портсигар, беспрестанно вертел его в руках, отпирал, запирал, открывал, закрывал, снова защелкивал, поворачивал то так, то сяк. Говорил торопливо, пылко, его взвинченность передалась и мне. Чувство юмора у него, как мне показалось, отсутствует, зато он непосредственно, совсем по-мальчишечьи любит розыгрыши. Один из его адъютантов — сердцеед, и ему часто звонят женщины по телефону, стоящему на столе Керенского. Керенский брал трубку, выдавал себя за адъютанта и бурно флиртовал с дамой на другом конце провода — это его очень забавляло. Подали чай, Керенскому предложили коньяку, и он уже было потянулся к рюмке, но адъютант запротестовал: спиртное Керенскому вредно, и я очень потешался, слушая, как он точно избалованный ребенок улещивал молодого человека, уговаривая разрешить ему хотя бы одну рюмочку. Он был очень весел, много смеялся. Я так и не уразумел, благодаря каким свойствам он молниеносно вознесся на такую невероятную высоту. Разговор его не свидетельствовал не только о большой просвещенности, но и об обычной образованности. Я не почувствовал в нем особого обаяния. Не исходило от него и ощущения особой интеллектуальной или физической мощи. Однако поверить, что своему возвышению он обязан исключительно случаю и занял такое положение лишь потому, что никого другого не нашлось, невозможно. На протяжении беседы — он все говорил и говорил так, словно не в силах остановиться, — в нем постепенно проступило нечто жалкое; он пробудил во мне сострадание, и я подумал: уж не в том ли сила Керенского, что его хочется защитить; он чем-то располагал к себе и тем самым вызывал желание помочь; он обладал тем же свойством, которым в высшей степени был наделен Чарльз Фроман, — умением пробуждать в окружающих желание расшибиться для него в лепешку.
Я не заметил в нем непомерного тщеславия, о котором так много говорили, напротив, мне показалось, что он держится просто, не позирует. Его искренность не вызывала во мне сомнений: я увидел в нем человека, который старается сделать все, что может, горящего бескорыстным желанием послужить не так отчизне, как соотечественникам. В России пылкость Керенского сослужила ему добрую службу — здесь любят непосредственное выражение чувств; у меня, с моей английской сдержанностью, это вызывало чувство неловкости. Меня коробило, когда его голос то и дело пресекался от волнения. Я конфузился от того, что такие благородные чувства выражаются в открытую. Но в этом и состоит одно из тех различий между русскими и англичанами, из-за которых мы никогда не сможем понять друг друга. В итоге он произвел на меня впечатление человека на пределе сил. Судя по всему, бремя власти ему непосильно. Это объясняет, почему он не способен ни на какие действия. Боязнь сделать неверный шаг перевешивает желание сделать верный шаг, и в результате он ничего не предпринимает до тех пор, пока его к этому не принуждают. И тогда к каким только уверткам он ни прибегает, чтобы, не дай бог, не понести ответственность за последствия этого шага.
Есть только одно обязательство — оставаться молодым как можно дольше…
Получил «Тринадцать поэтов». Давно не читал «современных» стихов. Перефразируя «Молодое, только молодое» я бы назвал этот сборник «Современные, слишком современные». Ахматову я просто читать не могу. Это, т.е. ее стихи, конечно, не «плохи», но… все же тошнит, «буквально тошнит», как, например, тошнило бы после котлет с розовой водой. Читать далее
За весь день не получал ни известий, ни впечатлений, кроме того что демократическое совещание открылось с битья по морде большевика эсером. Вечером — собрание жильцов для избрания домового комитета — едва не попал в председатели, но, слава Богу, чаша эта меня миновала; но от членства нельзя было отказаться.
Журналисты в совещании
Журналистам отведено место в оркестре. Место оказалось совершенно неприспособленным и не могло вместить всех явившихся на совещание журналистов. Усесться за столом могло только полтора-два десятка, остальные стояли вплотную. Часть поместилась на крутой лестничке, ведущей в оркестр.
Сегодня целый день объезжал городские училища. Осмотрел одну начальную школу, одно мужское и одно женское 4-классное училище и одну городскую женскую гимназию, пока открывшую только два класса. Конечно, как водится, мне показывали казовый конец. Надо еще поездить и самому, без Бельгарда, но пока впечатление чрезвычайно хорошее. 4-классные училища, лучшие по крайней мере, поставлены образцово, учителя и учительницы полны рвения и дружно работают.
Надо поскорее созвать собрание и успокоить педагогическое стадо, которое в ужасе от мысли, что во главе их ведомства стоит большевик!
Самым важным сентябрьским событием для меня является сочинение «Семеро их». Это вещь, которую я давно задумал, к которой давно подходил, и когда я наконец за нее взялся, то заранее чувствовал, что выйдет нечто замечательное. 17 сентября я наконец принялся за работу. Таким способом я еще не писал ни одной вещи. Здесь я записывал не музыку, а какие-то общие контуры, иногда одну голосовую партию, или писал не нотами, а графически, общий рисунок и оркестровку. Увлекался я безумно иногда, доходя до кульминационного пункта увлечения, должен был останавливать работу и идти гулять, чтобы успокоиться, а то сжималось сердце. Работал я над «Семеро их» недолго, не больше получаса или часа в день, и то не каждый день. Думал — очень много. Окончены были наброски 28 сентября, т. е. в двенадцать дней, из которых семь работал, а пять не писал. Читать далее
Был на Кузнецком мосту в банке Джамгаровых, куда отнес полученные от Сытина 4000 руб. за 4‑е издание 1‑й части и 3‑е изд. 2‑й части учебника. Оттуда прошел в университетскую библиотеку, где, разыскивая литературу о Петре в Англии, пробыл до 3 ч. дня и не все нашел.

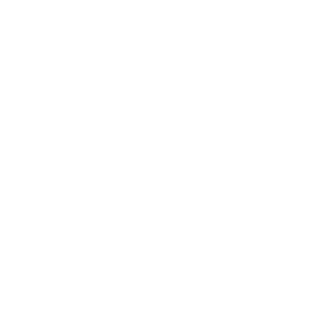
Гремите, военные оркестры! Вывешивайте флаги! Из красных полотнищ стройте триумфальные арки! Громче и веселее кричи, праздничный народ: в твой мрачный город вступает завоеватель! По июльским трупам, по лужам красной крови вступает завоеватель Ленин, гордый победитель, великий триумфатор — громче приветствуй его, русский народ! Гряди, победитель! Еще недавно ты был никто — ныне ты почти Бог, Ленин… Ты знаешь это? Как завороженный смотрю я в твои глаза, еще недавно отражавшие Германию в своем зрачке. Что в них — насмешка или злоба? Нет, это не насмешка и не злоба. Это — Великое Презрение. Кого же ты презираешь, победитель? Читать далее
Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки. Могут, ибо активное большинство революционных элементов народа обеих столиц достаточно, чтобы увлечь массы, победить сопротивление противника, разбить его, завоевать власть и удержать ее. Ибо, предлагая тотчас демократический мир, отдавая тотчас землю крестьянам, восстанавливая демократические учреждения и свободы, помятые и разбитые Керенским, большевики составят такое правительство, какого никто не свергнет. Большинство народа за нас. Это доказал длинный и трудный путь: большинство в столичных Советах есть плод развития народа в нашу сторону. Читать далее
Керенским на имя прокурора палаты послана следующая телеграмма:
«Прошу выдать ордер комиссару Временного правительства над управлением бывшего петроградского градоначальства о задержании и аресте обвиняемых по 100 и 108 статье уголовного уложения Ленина и Зиновьева».
Судебным следователем по особо важным делам Александровым в связи с этим распоряжением послано следующее распоряжение: Читать далее
Коротко и ясно
Нам холод-голод нипочем:
Мы их разделим с богачом!
За это с нами он поделит все достатки.
(«Поделит» после доброй схватки!)
Я больше не хочу работать с Дягилевым — в будущем я всегда буду работать без него, потому что наши идеи совершенно отличны. Я надеюсь, что Массин — которого я ценю — перейдет ко мне. Я надеюсь, что он не испугается Дягилева и что он позволит Массину прийти ко мне… Я больше не Нижинский Русского Балета — я Нижинский Бога — я люблю Его и Бог любит меня.
Наряду с бесчисленными беспорядками в городах и селах Российской «режпублики», своею обыденностью уже не пугающих нас, надо все-таки отметить крупные беспорядки в Тамбове и Козлове и их уездах. Разграблена масса лавок, свыше 20 имений. Грабят, жгут хлеб, расхищают имущество, и все это делает наше воинство. Начинается обыкновенно на каком-нибудь рынке, где унюхают тухлую рыбу, и пойдут без разбора уничтожать и воровать все, что подвертывается под руку. Читать далее